Это тундры раскрытая книга,
прочитаешь – и сердцу теплей.
Голубеет на ней голубика
И чернеет черника на ней.
Мы – на ягодах.
Что значит – зреет?
Малышок мой пока не поймет.
Он читать-то еще не умеет,
он измазал черникою рот.
Но бросает в корзинку мне: на вот,
пусть там будет и горстка моя.
Начинается жизнь его с ягод,
с замечательной буковки Я.
Ветер-гулёна! Над миром летит
чья-то косынка.
А за селом деловито шумит
листвокосилка.
Голые ветки, стыдливы стволы.
Сердится дятел.
Травы пожухли, легла на столы
инея скатерть.
Та нагота раздражает собак.
Слушая шавок,
не пожелает рябина никак
снять полушалок…
И замолчали в доме домочадцы.
Взвивался мусор в глубине дворов.
Упало небо – это постучался
пришелец из заоблачных миров.
К деревьям, травам, людям, что ослабли
под зноем летним, заявился днем.
И молния в его ручище – сабля,
и смерч-горыныч крутится вьюном.
Ты саблю не сломай, летун-разбойник,
несущий неземное ремесло
в Бермудский окаянный треугольник
на скоростном поганом НЛО.
Лети-лети! Ни пользы, ни доверья,
Один лишь страх да память на года.
Ну, что тебе, злодей, моя деревня,
Когда тебе подвластны города?!
Божественная ягода морошка,
хозяйка заболоченных лугов!
Со щавельной кислинкою немножко.
Ее любили Пушкин и Рубцов.
Я княжествую нынче на болоте,
там урожай на тысячу столов.
На Севере прекрасные полотна
от солнца и от ветра мастеров.
Рисовано наглядно, просто, сочно.
Мне более в картине той важна
не жёлтая морошковая кочка,
а приклонивши голову княжна…
В.Беднову.
Вы меня в морозный день согрели
доброю крестьянскою душой,
северные Малые Корелы,
Малые – но с памятью большой.
Словно нарисованные углем
на широком снежном полотне,
мельницы-игрушки, церкви-куклы
повернулись личиком ко мне.
В этом мире деревянных кружев
было много разных добрых дел.
Ах, Архангельск! Сам себя разрушив,
погорельцев с вотчины пригрел.
Малые Корелы! По спирали,
покружив тропинками, прошли
ту Россию, что мы потеряли,
ту Россию, что мы сберегли…
Ах, какие в этом мире жили варежки!
Варя-варежки бегут из-за угла.
Нет, наверно, не найдется больше бабушки,
чтоб такие же связать еще смогла.
А зима, зима тепла до неприличия –
облысел совсем у речки бережок.
Две задиры, две лохматых рукавички
запускают в мою сторону снежок.
Но неверною орбитой запускается –
до чужого, до случайного плеча.
От снежка ли тот прохожий спотыкается
или малость перебрал «Спотыкача»?..
Варя-варежки! Сосулька не обломится
и под нами не обвалится крыльцо.
И лицо мое все клонится и клонится
или варежки ложатся на лицо?..
Не петь о доблести солдатской.
Для них в метели огневой
не Кошевой с Космодемьянской,
а Власов – истинный герой.
И Ленинград отдать бы стоило,
не отвоевывать Ростов…
Плывет не той рекой истории
ладья Курильских островов…
Они, сомненьями беременны,
богатство могут понимать.
Собрать бы их в машину времени,
к Виссарионычу послать.
Они, ценители виктории,
Пусть с «мосинской» наперевес,
послушают урок истории,
сороковых годов ликбез!..
Держа рубеж московский, выстоять
на задымленной полосе.
А позади уже не Минское,
уже Рублевское шоссе…
Жива ли няня-красотуля?..
Я нашу карточку храню:
стою в фуражечке на стуле,
я с книгой Сталина стою!
Девчонка-няня, дюже гордая,
слегка выказывала злость,
что у еврея, у фотографа,
дитю игрушки не нашлось!
А я едва с волненьем справился,
мне помогал усатый вождь.
Я на фотографа уставился:
когда же, «птичечка», вспорхнешь?..
Запечатлелась ласка нянина,
любовь молдавская ко мне…
Мы уходили. Книга Сталина
вновь упокоилась в окне.
И в той витрине над акацией –
все вещи с яркою звездой.
А при румынах, в оккупацию, —
иной символики, иной…
Мы уходили. Панорама
послевоенного житья,
где мир делила с разным хламом
и книга первая моя…
Завидуйте, я вижу корабли!
И это пограничникам не нравится.
Баклуши бью. И бьет о край земли
ладонью ледяною море Баренца.
Какие вспоминаю имена,
когда волна с размаху бьет по темени?!
Гуляй, волна, и вынеси, волна,
бутылку с письмецом иного времени.
Не те, не те вдали горят огни.
Машины, а не крылья парусиновы.
Эй, океан, Русанова верни,
верни во льдах пропавший барк Брусилова.
Не те над морем стелются дымы,
гудки не те, не то опять увидел я.
Девятый вал, очнись и подними
утерянную землю Атлантидову.
Какие в море были имена!
О том расскажет только топонимика.
А вот и письмецо несет волна –
«Мартини» штоф от острова Мартиника.
А следом – паруса! Нет, не мираж!..
Эй, капитан «Летучего голландца»,
прими меня в свой вечный экипаж,
искателя, поэта, голодранца!..
Последние новости
- 19:31 Купить утеплитель для фасада
- 12:41 Приобрести качественные окна по хорошей цене
- 23:01 ТЭЦ-2 – энергетическое сердце Владивостока: планы по модернизации станции
- 20:11 Округ первый: муниципальная реформа заглянет во все районы Приморья
- 18:11 "Спичку кинь, рыба сгорит": кто и как засоряет залив Находка
- 16:01 Очередной точечный скандал
- 13:52 Мужчинам не нужен праздник
- 11:52 Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect
- 9:51 Зачем Владивостоку деревья?
- 7:41 "На уровне кризиса": инцидент с театром кукол показал проблемы развития
- 13:01 Недвижимость Владивостока в поисках спроса
- 11:01 Регионам Дальнего Востока выписан рецепт развития
- 8:51 Ипотечный ажиотаж: Хотели как лучше, получилось как всегда
- 9:41 Во Флориде сравнялось количество голосов у обоих кандидатов на пост президента США
- 7:31 Штат "одинокой звезды" и Канзас перешли на сторону Трампа
- 5:31 Кандидаты в президенты США дышат друг-другу в спины
- 23:21 Вооружённые наемники не пускают докеров в ВМТП
- 3:54 Pin-Up Aviator Oyunu: Necə Oynanılır və Qazanma Şansını Artırmaq Üçün Məsləhətlər
- 3:11 Свет противовоспалительного комфорта: выбираем правильно
- 5:30 Совершенство зимних шин Ikon: откройте секреты











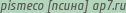 |
|